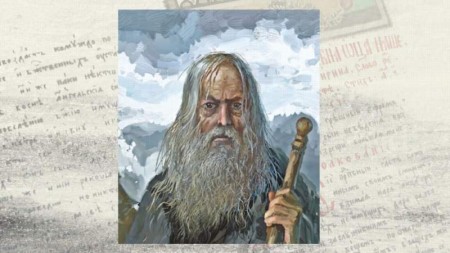Пионерское невежество
«Первая женщина, проникшая в глубь Азии» – заглавие стенда, посвященного Александре Потаниной в музее города Кяхта. Заглавие можно считать курьезом, а присутствие его в современном музее – постмодернистской иронией музейщиков.
Однако курьез вполне в духе не только пафоса исторических открытий, но и того, что за столетия почти не уменьшилась культурная дистанция между русско-европейской Сибирью и азиатскими цивилизациями. Утверждать, что в Сибири (да и в России в целом) состоялась «встреча Европы и Азии» – значит, выдавать желаемое за действительное.
Возникновение «русской Сибири» было одним из решающих этапов превращения Московской Руси в Россию и в то же время продвижением укладов, мировоззрений, культур, возникших в землях Северной, Московской, Западной Руси, в северную Азию. С петровско-екатерининских времен этот процесс можно определять как продвижение на восток европейски-ориентированной культуры, а со строительством Транссиба – индустриальной цивилизации. Но это продвижение отнюдь не означало встречи с мировоззрениями и культурами Азии, цивилизационного контакта и взаимодействия.
Сибирь для России была пространством, куда можно было уйти человеку или «уйти человека». Изменения «на месте» предполагают культуру компромисса – как с непосредственным окружением, так и с ушедшими поколениями, невозможность разрывать отношения с предками. Иначе шел процесс формирования России, и едва ли не самым существенным фактором этого процесса была Сибирь. Люди пытались уйти от трудностей тупиковых к иным, казавшимся преодолимыми, либо забрасывались властью за Урал и на Юг как для решения экономических задач, так и для того, чтобы трудностей не создавали.
Для человека, живущего в России, перемещение – не просто средство изменения условий жизни и работы. Уход от неразрешимых проблем к неизвестным трудностям – едва ли не единственная возможность преодолеть предуказанность индивидуальной жизни. Само формирование современного населения Сибири – этот побег из прошлого, бывший для конкретного человека или семьи скачом в будущее, таким же радикальным, как революция для страны. Уход от прошлого, вольный или невольный разрыв со «старым миром» оставался наиболее, если не единственно, значимым событием в истории семьи, в биографии человека. Но и прошлое того пространства, куда человек приходил «начинать сначала», не только не рассматривалось как свое – оно не замечалось.
В облике старых сибирских городов – не только районов советской застройки, но их исторических центров, формировавшихся в 19 веке, – крайне редко можно заметить приметы коренных или соседних азиатских культур. Сибирская городская культура формировалась вне отношений с миром Азии. Возникновение культурных гнезд в сибирских столицах: Томске, Иркутске, Красноярске, Омске – сопровождалось ростом сибирского самосознания, выразителями и пропагандистами которого стали областники.
Отношение областников к «нерусской» Сибири не было единообразным. Если Серафим Шашков скрупулезно исследовал положение «инородцев» в Сибири, а Григорий Потанин считал христианизацию местных народов неверной политикой, то Николай Ядринцев, хотя и с сентиментальными сожалениями, но не без энтузиазма писал, что народы Сибири останутся в истории как жертвы неумолимого и необходимого прогресса. Исторический оптимизм сибирского патриота Ядринцева вдохновлялся не только идеалами прогресса, но и опытом североамериканских штатов, совершивших на «диких землях» рывок к университетам и передовой индустрии.
В целом областничество симпатизировало местным народам. Однако, заявляя об общесибирских интересах, областники не включали в понятие Сибири опыт этих народов, их историю и культурное наследство. А на «большие» соседние культуры – буддистскую, китайскую – идеологи областничества смотрели хотя и с симпатией, но как на объекты цивилизаторской миссии, а не как на культурный ресурс Сибири.
Отношение к непохожим культурам и способам жизни как к отсталым, нижестоящим на некоей общецивилизационной шкале – не только российская проблема. Русская интеллигенция здесь была вполне солидарна с любимым учителем – европейским Просвещением. Но в западноевропейском сообществе последнее столетие происходило интенсивное преодоление симптомов подобного европоцентризма, а в науке и художественной культуре – его сути. В России же, даже в двадцатом веке – в советской России, провозглашавшей интернационализм, пафос преобразования мира подогревал цивилизационное высокомерие.
В результате мы сегодня в Сибири все еще в положении пионеров и первопроходцев – с наивной верой, что жизнь будет лучше и лучше, и с подростковым нежеланием замечать свое невежество. Азиатских соседей не знаем и не очень хотим знать, а оттого даем себя запугать криками о «желтой опасности». И культуру народов, умевших еще до прихода похабовых и хабаровых жить в согласии с сибирской природой, воспринимаем не более чем музейную экспозицию.
У нас есть еще шанс повзрослеть, понять, что наследство можно не только сохранять в отделах природы и этнографии, но и осваивать – учиться умению жить, не разрушая. Таким искусством обладали наши предки – те, кто жил на этой земле, в этой могучей природе тогда, когда ее можно было назвать вечной – без всяких кавычек.
Михаил Рожанский