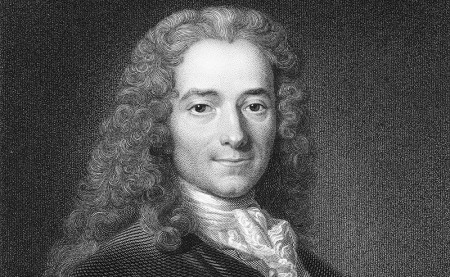Александр Мелихов: «Кто из вас не думал о самоубийстве?»
«Его знают немногие. Те немногие, кто хочет проснуться и жить».
Дмитрий Быков об Александре Мелихове, «Один», 28.02.2019
Он начал свой доклад на книжном фестивале «КнигаМарт» с вопроса «Кто из вас не думал о самоубийстве»? Поднялась одна рука, на которую многие посмотрели с удивлением. Александр Мелихов не суицидолог, а писатель, который не боится выходить на острые общемировые вопросы, как на страницах своих книг, так и в ежедневной рутине.
В иркутских книжных найти его тома не так просто, он работает в непопулярном жанре интеллектуальной прозы, печатается главным образом в толстых литературных журналах, в редакцию одного из них входит и полноправно носит имя, почти вышедшее ныне из употребления, публициста и литературного критика.
Некогда блестящий советский математик и кандидат соответствующих наук, он выбрал свою стезю убежденно, твердо ей следует, много работает и как будто бы всем доволен. В книгах Мелихова есть ответы, возможно, на все вопросы, кроме одного: а что, так можно было?
— Вы много путешествуете?
— Я очень много путешествовал в молодости, любил автостопом ездить, на шабашки. Мне нравилось забраться с топором куда-нибудь, где из маменькиных сынков никто не бывал никогда. В Иркутске тоже был на шабашке, еще молодым человеком, потом лет через пятнадцать на научной конференции... Я и сейчас много езжу, но все больше по заграницам. Это, конечно, очень интересно, но романтизма того нет.
— Вы когда-нибудь хотели репатриироваться?
Я мечтал работать на космос, на термояд, в закрытом городе, где творилась великая наука и техника. Окончил университет с блеском, стоял первым в списке, но не попал в Арзамас-16 — отказал Первый отдел, видимо, сказался еврейский папа, да еще и отсидевший. Я испытал тогда ужасное унижение. Отсюда глядя: мелочь, даже, может быть, и хорошо, что я остался в Ленинграде, но в тот момент, когда ты всей душой хотел послужить, условно говоря, родине, а она от тебя отвернулась, это был серьезный удар. Я тогда не понимал, что жизнь огромна и любой эпизод — мелочь, почти любой, через год будет все иначе выглядеть.

— Тогда вы думали, а не уехать ли?
— Мне многие говорили: да ты с твоей головой, с твоими знаниями, да ты будешь 100 тысяч долларов в год получать! А меня ужасала мысль, что я потеряю весь огромный мир русской культуры. Разумеется, и Пушкин всюду есть, и Толстого можно читать, но я как-то ощущал, что Пушкин будет жить только в России, а я хочу жить вместе с ним. Не просто его читать, а быть частью пушкинского мира — бессмертного, заметим, мира. Я видел, что драгоценное для меня богатство моей личности, которое я накопил, связано с Россией. И все это я потеряю, потеряю связь с бессмертной рекой, от меня останется одна профессиональная функция.
— Тоже способ взаимодействия с миром.
— Но мир огромен, симфоничен, бесконечен, а мне от него достанется одна только коротенькая мелодийка на дудочке. Никому, никакому правительству не по силам ни обеднить его, ни испортить, а я должен был из-за какого-то жалкого политбюро сам его у себя отнять. Жизнь — это гигантский океан, который совершенно не зависит от того, кто на какой лодке капитаном сидит, — так было тысячи лет, так и будет тысячи лет. И что этот океан оставляет на берегу? Что Римская империя оставила после себя? Только искусство. И Греция, и Россия ХIХ века. Советская власть чего только не нагородила, а остались от советской эпохи Шостакович, Платонов, Шолохов... И я стараюсь вкладываться в самое главное, что делает Россию Россией. Меняться будут марионетки сотнями, и их будут забывать через день, а Платонов будет существовать, и Толстой будет существовать. И я надеюсь как-то в их мире хоть и самое скромное место, но все-таки найти.
— Вы написали более двадцати книг и свыше 100 больших, серьезных статей, а с газетными больше тысячи — как вам удается сохранять продуктивность?
— Это от жадности. Если я вижу историю, саму по себе интересную, но я еще и нахожу в ней какой-то глубокий символический смысл, тогда меня настолько охватывает жадность, что я уже не знаю, чем еще, кроме нее, заниматься. Я никогда не рассказываю просто интересные случаи. Но превращать обыденное в высокое, жалкое — в трагическое настолько увлекательно, и настолько жизнь в воображаемом мире полнокровнее, чем в реальном, что я даже не понимаю, как живут люди, которые не сочиняют книг.
— И ясность мысли от жадности?
— О, это проклятие просто (пожимает плечами). Еще и математическая выучка.
— Вы романтик, который хотел работать на космос, но в книгах притворяетесь скептиком. Кто же вы?
— Я долго работал в науке, и у меня есть математический ум, который ничему не верит. Это проклятие, потому что всякая мечта, как только подойдешь к ней с научными требованиями, разрушается. Сочетать этот лед и пламень, с одной стороны, трудно. Художественное творчество должно быть свободным полетом фантазии, а тут сам себе привешиваешь свинцовые гири доказательности и рациональности. Но, с другой стороны, когда я вгляжусь в замысел со всей ясностью, увижу все снижающие стороны, и мне все же удастся поднять над землей весь этот чугун, — тогда в этом сочетании скепсиса и романтизма появляется какая-то уникальность. Критик Владимир Новиков когда-то написал, что «на дне» нашей жизни я одновременно и Сатин, выкладывающий миру горькую правду, и Лука, сочиняющий утешительные сказки.
— Вы когда-нибудь чувствуете усталость от этих подъемов?
А вы чувствуете усталость от того, что дышите? Нет, это мое естественное и любимое состояние.
— Вот Быков боится, что вы уверуете, а чего боитесь вы?
Боюсь, как все люди, болезни, смерти, нищеты, одиночества, но каждую минуту я не думаю об этом. Особенно когда сочиняю — это лучшая защита от реальности.
— А коронавируса не боитесь?
Нет, вокруг хватает намного более серьезных опасностей.
— А то, что власть не сменится в России еще лет 40, не боитесь?
Я родился при Сталине, жил при Хрущеве и Брежневе, и моя жизнь была прекрасна. И ужасна, и прекрасна. Я не помню ни дня, который бы не был наполнен смыслом, красотой или отчаянием, но оно было никак не связано с тем, что Брежнев произносил с трибуны. Жизнь грандиозна, политика лишь грязный пятачок в этом космосе.

— Что бы вы сказали людям, которые прямо сейчас думают, уезжать из России или оставаться?
— Я полагаю, надо думать не о том, где сколько ты заработаешь, а где ты будешь жить наиболее полной жизнью. Функция плотника или программиста — это одна тысячная его личности, а личность хочет жить вся. И вот где твоя личность наиболее полно расцветает, вот там и нужно жить. Моя личность расцветает только в России.
— Вы являетесь замом главного редактора толстого литературного журнала «Нева» и ищите новых авторов: художественной литературы или нон-фикшн?
— Художественную литературу люди пишут сами, кто уродился писателем, тот будет писать, а вот публицистику нужно стимулировать.
— За то время, что вы работаете, как молодые авторы поменялись?
— Состарились (смеется). Писателей часто привязывают к историческим событиям: потерянное поколение Первой Мировой войны или поколение ХХ Съезда... Я не вижу такого исторического события, к которому сегодня можно привязать писателей. Каждый живет своей жизнью и делает то, к чему душа лежит.
— А если взять не историческое событие, а технологическое?
— Соблазнов, которые уводят людей от главного дела жизни, всегда было много, всегда были и сплетни, и глупые развлечения, сейчас их больше — технологии этому помогают.
— А главное дело жизни — это..?
— Это то, что дает нам счастье, когда мы чувствуем себя красивыми и значительными, мир вокруг ощущаем огромным и пусть трагически, но прекрасным, чувствуем, что стоит жить в этом мире, стоит мучиться ради пребывания в нем. Это не достигается потреблением.
— Может, уход от дела жизни перестал быть трагедией и стал будничной практикой. Мы каждый день помаленьку делаем это.
— Да, мусор в нашу жизнь проникает под видом важных сообщений: там какого-то президента сместили, тут какой-то вице-премьер другому вице-премьеру что-то сказал... И нужно постоянно себе напоминать, что стоит зазеваться, и жизнь пройдет впустую.
— Растворится в информационном потоке.
— Да, где тебя нет.
— Смысл жизни в том, чтобы ощущать себя красивым? Вы часто это повторяете.
— Да, и значительным. Большим, а не мелким. Наиболее отчетливо я это понял, когда работал с людьми, пытавшимися покончить с собой. Я ходил в клинику скорой помощи, куда 10-20 человек в день привозят, это нормально для большого города. Я ожидал, что меня ждут шекспировские несчастья, но оказалось, что с этими людьми не случилось ничего такого, чего бы не случалось с каждым из нас. Каждого из нас предают, отвергают, все мы терпим неудачи, теряем близких, это наш будничный хлеб. Но мы огорчаемся, плачем, проклинаем судьбу и все-таки тащим этот воз, а они отказываются. Сначала я пытался, как все мы, глупые люди, преуменьшать их несчастья, говорить, что это не так страшно. Но это их только оскорбляло. Как это не так страшно, если я чувствую невыносимую боль? Раз больно, значит страшно. Тогда я и понял, что надо преувеличивать страдания людей.
— Звучит не очень жизнеутверждающе. Это может помочь суицидентам?
— Они хотят, чтобы их страдания сделались значительными. Их убивает в том числе некрасивость и мелкость их страдания, сочетание страдания с унижением. История Ромео и Джульетты ужасна, но мы, однако, на них 400 лет смотрим и никак не можем налюбоваться. Что же тут хорошего? Красота! Когда человек начинает ощущать свою трагедию красивой, он наполовину спасен, он способен ее принять. Он готов играть роль в высокой трагедии, а в какой-то жалкой комедии или мещанской драме — нет. И вот это ощущение, что пусть мир ужасен, но он значителен, и мы в нем, в общем, тоже не последние люди — это есть чувство осмысленности жизни.
— Когда вы это поняли, сколько вам было лет?
— Ну, где-то 42-45. Первый кризисный возраст. Когда ты понимаешь, что нового уже ничего не будет.
— С тех пор, как вы это сформулировали, прошло почти 30 лет. И что, правда, ничего нового?
— Нет, случилась бездна нового. Если ты азартный человек и чувствуешь: «это красиво», то тебя не слишком волнует, в сотый раз ты это видишь или в тысяча первый. За новый роман берешься, как за первый, с каждым новым человеком знакомишься, будто впервые.
— А какова роль литературы во всем этом?
— В позднее советское время литература интеллектуальная, которая мне близка, была почти невозможна — не знаю почему, марксизм этого не запрещает. Видимо, начальство просто ненавидело то, что ему недоступно. Так советская власть создавала врагов из лояльных людей. Я был абсолютно лояльный человек — хотел заниматься наукой, писать хорошие книги, а не свергать правительство — мне было на него трижды наплевать. Но они душили мое творчество, и у меня было чувство, что мне никогда не дадут написать то, что я хочу. И я ощущал себя мелким и жалким. Но только благодаря работе с несостоявшимися самоубийцами я осознал: если ты будешь ощущать свои несчастья красивыми и значительными, ты спасен. И этим, возвышением наших бед, занимается литература. А кроме нее не поможет ни демократия, ни рынок. Будет 200 партий или одна, ты умрешь точно так же, как Екклесиаст, который был царем над Израилем и говорил, что все — суета и томление духа. Материя не спасет ни от смерти, ни от страха смерти, ни от чувства некрасивости, бессмысленности твоего личного бытия. Реальность не дает материала для этого. Спасти может только художественная фантазия.
Беседовала Ольга Путинцева
Второй международный книжный фестиваль «КнигаМарт» прошёл с 13 по 15 марта в Иркутске при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области, Иркутской нефтяной компании и конкурса социальных проектов «Губернское собрание общественности».

![]()
Фото: Николай Благонравин, фотослужба «Восточная Сибирь».