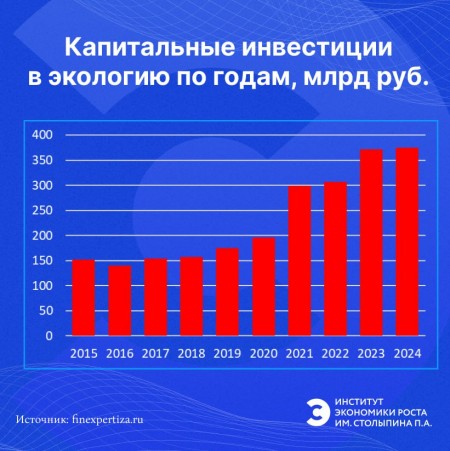Расстояние до судьбы
4 ноября 2005 года в день рождения Александра Васильевича Колчака в Иркутском драматическом театре состоялась премьера "Колчака" по пьесе Сергея Остроумова.
Спектакль поставил художественный руководитель театра Геннадий Шапошников, а на роль Колчака пригласил народного артиста России Георгия Тараторкина. С тех пор каждый месяц он летает на Байкал, чтобы сыграть опального белого адмирала, выдающегося сына отечества. Сам Тараторкин не считает эту работу ролью. Для него она - дар судьбы. Накануне московских гастролей мы попросили Георгия Георгиевича рассказать об этой встрече с Колчаком.
Российская газета: Как для вас началась история с этим спектаклем?
Георгий Тараторкин: Поначалу, когда мне предложили сыграть роль Колчака в Иркутском театре драмы, я растерялся - ежемесячно играть в Иркутске? И организационно, и физически сложно, все-таки шесть часов лету. Но когда мне пришлось с судьбой познакомиться...
РГ: А вы до того ничего о Колчаке не знали?
Тараторкин: Знал в рамках тех стереотипов и предвзятостей, которые мне достались от советской промывки мозгов. Последнее и главное, быть может, что всплывало в памяти на его счет, "кровавый диктатор". И когда я погрузился в эту судьбу, я обомлел. Испытал восторг и жуткую боль. Ведь в Иркутске фактом расстрела и сброса тела под лед не была поставлена точка. За этим последовало продолжение, когда личность и судьбу извратили, подтасовали, загнали в прокрустово ложе исторических контекстов.
Когда весь объем этой трагедии - прижизненной и посмертной - предстал передо мной, я понял, что дело не в расстоянии до театра, а в расстоянии до судьбы. Да, до Иркутска далековато, но ближе ничего равного этой истории мне не предлагается... И полетел.
РГ: Можно вообразить себе реакцию старых людей, для которых Колчак, наверное, навсегда останется "кровавым диктатором".
Тараторкин: А из множества неправд правду не слепить. В том-то и дело, что правд много. Одной правды на всех не бывает. Да, поначалу было не ясно, как воспримут зрители эту работу. Ведь на иркутской земле, политой кровью и красных, и белых, - корни этих людей, их родословных: чей-то дедушка сражался с колчаковщиной, чей-то погиб от рук красных. Но вот они все приходят и, замерев, смотрят. И так же, как мы, в процессе создания спектакля потрясенно открывают для себя эту историю, эту судьбу.
"Принимая крест верховной власти, я обещаюсь и клянусь служить государству российскому как своему отечеству". Многие ли из тех, кто находится сегодня на государственной службе, могут сказать, что служат отечеству?
РГ: Интересно, знали ли о его арктических исследованиях советские полярники, о том, что он был - третьим после Нансена - награжден Большой золотой медалью Географического общества?
Тараторкин: Думаю, что это было тайное знание, получаемое в зависимости от открытости и профессионализма каждого. Но вот что поразило меня совершенно. Он был одним из крупнейших (и по сей день авторитетных) специалистов в области минирования. Во время Великой Отечественной минирование Ленинграда, включая водное, во многом делалось по схемам Колчака. В годину испытания вновь обратились к гению того, кого, расстреляв, опустили под лед!
А что за фантастическая любовь! Две женщины, которые столько вынесли за свою верность Колчаку, навсегда остались благодарны судьбе за то, что она подарила им счастье быть рядом с ним.
У нас давно истерлись первоначальные значения слов. Но Колчак действительно был человеком долга и чести. Когда к нему пришли разгоряченные революционные матросы с его корабля и потребовали отдать георгиевскую саблю, которую он заслужил при обороне Порт-Артура, он сказал: "У меня даже в японском плену не отбирали офицерское оружие. А здесь свои, русские..." И выбросил саблю за борт. Вообще вокруг него - множество легенд. По одной из них его же матросы потом подняли саблю, сделали из нее кортик и вручили адмиралу.
Понимая, как его подставили с одной стороны французы, с другой - чехи, он, получив предложение возглавить кафедру минного дела в Америке, никуда не уехал. А ведь согласись он, и его жизнь, и его посмертная слава были бы в порядке - и по причине его научных заслуг, и благодаря служению Российскому флоту, и, наконец, из-за небывалой, юношеской, романтической любви, которую он испытал в конце жизни.
РГ: Какое первое впечатление, связанное с Колчаком, вас настигло в Иркутске?
Тараторкин: Когда я только прилетел в Иркутск, мы поехали на набережную, и в лучах заходящего солнца я увидел сияющий белый крест на другом берегу - самодельный памятник Колчаку. Задолго до того, как поставили официальный памятник, кто-то соорудил простой деревянный крест. Почти землистый, он почему-то на другом берегу сиял ослепительно белым светом. На нем была фотография Александра Васильевича, вырезанная из книжки. В трех местах она проржавела, точно следы от пуль. "Похоже, вы всегда расстреляны", - подумал я. Шапошников прихватил с собой маленький пузыречек. Там, у креста, мы помянули Александра Васильевича. Вот так все началось.
РГ: Настигло чувство судьбы?
Тараторкин: Я вообще ведь неожиданно оказался в театре, и эта неожиданность меня по сию пору изумляет. Несмотря ни на что мне не перестает быть интересным... не играть, нет, а что-то другое делать.
РГ: А что?
Тараторкин: Ну, если ты во что-то поверил, узнал что-то важное, то за это можно и... постоять. Ведь играть - не мужское дело. А вот если постоять за что-то, что-то защитить... потаенное. Но потаенно пишется и судьба. У меня все началось со Шмидта. А потом я встретился со столь же подлинной для меня судьбой Родиона Романовича Раскольникова. А потом - Иван Карамазов, Ставрогин. А потом возник Александр Александрович Блок, а потом Александр Николаевич Романов (император Александр II). Мне трудно играть просто роль в просто пьесе. Роли мы и в жизни все играем. А вот судьба есть не у каждого.