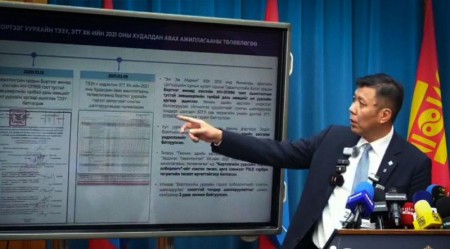Параллельные миры воображаемых жизней
Для общества важно не только то, что действительно было в его истории, но и то, что могло бы быть теоретически.
Уинстон Черчилль в эссе «Если бы Ли не выиграл Битву при Геттисберге» рассуждает о том, как бы развивались дальнейшие события, если бы это сражение и всю войну выиграли конфедераты. Использование сослагательного наклонения его не смущает. На фотографии ветераны гражданской войны 1861–1865 годов. Фото из архива Библиотеки Конгресса США |
Одна из самых расхожих максим относительно истории гласит, что история не допускает сослагательного наклонения. Но многие современные историки считают её несостоятельной. С одной стороны, кажется, с содержащимся в ней утверждением трудно спорить: в истории невозможны эксперименты, она сложилась так, как сложилась. Историку не пристало заниматься спекуляциями и рассуждать о том, что было бы, если бы всё получилось не так. Его дело восстанавливать истинную последовательность событий.
Между тем, эта максима с неизбежностью вступает в противоречие с другой, возможно и менее расхожей, но уж безусловно более старой: история — учитель жизни. Она восходит ещё к Цицерону (Marcus Tullius Cicero, 106–43 до н.э.), повторившему её как минимум дважды. Один раз в сочинении «Об ораторе», а второй — в «Тускуланских беседах». Об этой цицероновской фразе вспомнили гуманисты, посчитавшие, что на истории должно строиться воспитание детей и с неё начинаться всякое образование. Правда, со временем появились такие, кто и на неё попытался бросить тень, говоря, что, мол, история учит только тому, что она ничему не учит. Но от такого пессимизма в наши дни стараются отказываться. Главный редактор журнала «Знамя» Наталья Иванова как-то сказала: «Историю надо знать, чтобы она не повторялась — неизжитая, она мстит».
Предположим, знание истории предотвращает её от повторения. Значит, незнание её даёт ей возможность повториться? То есть хотя бы ограниченная повторяемость опыта, необходимая для экспериментального знания, есть? А тогда что запрещает вопрос «что будет, если?»
Этот аргумент можно сформулировать иначе. Многие поколения историков ищут причинные объяснения тому, что происходило в прошлом. Само по себе такое объяснение всегда предполагает определённую сослагательность: не было бы причины, не было бы и следствия, «нос Клеопатры, будь он покороче, и…». Оба аргумента, таким образом, бьют в одну цель: мы избежим неприятных последствий в своей будущей жизни, если обойдём приводящие к ним причины, о которых мы узнаем, изучая историю, и, изучая историю, мы узнаем, чего бы в ней не произошло, если бы выявленные историком причины не имели бы в ней место.
Картина Генриха Семирадского «Александр Невский в Орде». В цикле повестей «Плохих людей нет» Хольма ван Зайчика события разворачиваются в наши дни в гипотетической стране Ордусь, возникшей, согласно авторскому допущению, при объединении Руси и Орды после того, как Александр Невский и хан Сартак заключили договор о дружбе |
Известный английский социолог Стив Фуллер (Steve Fuller) выражает своё недоумение в таких выражениях:
[Запрет на сослагательное наклонение в истории] представляется загадочным: почему тогда ему позволено играть столь важную роль в естественных науках и социологии? при выяснении мотивов и степени ответственности — в юридических? в некоторых прикладных отраслях истории (клиометрии) — не в последнюю очередь в экономической истории, достижения в которой уже были отмечены Нобелевскими премиями?
И делает заключение:
Контрфактуальные доводы всегда неявно подразумеваются в рассуждениях историков.
Отказ работать с допущениями относительно прошлого и стремление жёстко привязывать всю историческую перспективу к известным историческим фактам указывает, по мнению Фуллера, не столько на «приверженность фактам», сколько на нежелание двигаться от фактов к причинным описаниям. Любое познание причин требует проведения экспериментов. В случае исторического материала речь, разумеется, может идти только об экспериментах, осуществляемых в воображении, фантазиях.
Вся Научная революция XVII века опиралась на мысленный эксперимент не в меньшей, а может быть, даже и в большей степени, чем на эксперимент реально проведённый. Не случайно Александр Койре (Alexandre Koyre`, 1892–1964), работая в 1930-е годы над своими «Галилеевскими этюдами», пришёл к убеждению (впоследствии оказавшемуся ошибочным), что сам-то Галилей (Galileo Galilei, 1564–1642) реальных экспериментов никогда и не ставил. Результаты всех тех опытов, которыми кишит его «Диалог» — от мушкетной пули, привязанной к пушечному ядру, до маятника, раскачивающегося в трюме несущегося по волнам корабля, и зеркала, висящего на кирпичной стене, — не вызывают никаких сомнений, едва только опыт описан словесно.
Если говорить о мысленных экспериментах в истории, то буквальная визуализация метафоры «историческая перспектива» возможна в двух смыслах: внутриисторическом и внеисторическом. В первом случае, эксперимент ставится так, чтобы непременно прийти к известному нынешнему положению вещей — ведь, в конце концов, известно, к чему пришла вся долгая история человечества. Во втором случае, от этого условия можно и отказаться, допустив вероятностный характер не только прошлого, но и настоящего.
Истинная история
В 2005 году известный и, без сомнения, относящийся к лучшим, российский философ Александр Никифоров обратился к историкам с вопросом, звучащим так:
Можно ли понятие истины, в её классическом понимании, применять к историографическим описаниям? А если можно это делать, то в каком смысле? […] Ведь история телеологична, и чего бы историк ни хотел, он обязан прийти к современному положению дел. Но на историка влияют философско-методологические представления. Всякие модные философские учения — то индуктивизм, то Поппер вдруг вылез, то Томас Кун со своей структурой, — и хочет историк или не хочет, он впитывает эти вещи и начинает руководствоваться новыми представлениями, приступая к описанию истории. Меняется и сам массив данных. Открываются новые документы — я напомню о том буме, который мы пережили в общей истории при рассекречивании разного рода документов. Национальные предпочтения также сказываются при составлении историографических описаний — если сравнивать историю написанную англичанами, с той, которую написали французы или немцы, мы заметим значительные расхождения.
В условиях множественности историографических описаний есть ли возможность выбора лучшего? Существует ли критерий, который позволил бы отдать предпочтение одним в ущерб других? В завязавшейся после этого довольно длительной дискуссии мне бы хотелось выделить только одну точку зрения, аргументированную Александром Огурцовым — также философом, а не историком. Он говорил об истине как о «трансцедентальном монстре», которому вообще не место в науке — в частности, в истории:
Я напомню вам только первую страницу „Опыта философии теории вероятностей“ Лапласа. Лаплас там выступает как критик понятия истины. Он говорит, что истина существует только для бога. А поскольку мы люди, мы можем говорить только о той или иной вероятности нашего знания, о его правдоподобии. И ничего больше!
Заражённая чумой блоха Xenopsylla cheopis. В романе «Годы риса и соли» Ким Стэнли Робинсон повествует об альтернативной истории человечества с поворотного момента описываемого им мира — уничтожения чумой всего (а не предполагаемых 30–60%) населения Европы в XIV веке. Автор пытается разобраться в основах восточных религий, понять, как мир мог бы выглядеть без всепроникающего влияния европейской цивилизации и христианства. Фото: CDC |
Идея, выраженная Огурцовым, не нова. Эту мысль отстаивал в послевоенные годы ещё Пол Фейерабенд (Paul Feyerabend, 1924–1994). С его точки зрения, сам факт научных революций указывает на невозможность приблизиться к истине в научных поисках. Теории, которые формулируют учёные на основании своих наблюдений, оказываются полезными или бесполезными независимо от того, насколько они верны.
Однако Фейерабенд говорил о теориях вообще, не делая специального ударения на теориях исторических. В то же время особое положение истории очевидно. В книге «Как устроена история» известный питерский писатель Илья Стогов сетует:
Попробуйте провести эксперимент: заговорите в компании малознакомых людей на тему науки физики. Думаю, что, как только вы поинтересуетесь мнением собеседника насчёт общей теории полей или последних работ Стивена Хокинга, тот заскучает и разговор будет закончен.
Однако, если вы заговорите не о науке физике, а о науке истории, всё сразу изменится. Через десять минут подобного разговора многие обнаружат в ближнем смертельного врага, а в теме беседы — личное оскорбление.
«Наука — занятие скучное и неинтересное. Любая наука — кроме науки истории».
Конечно, в физике тоже есть особые «горячие» точки, вокруг которых могут разгореться нешуточные разногласия. Например, по поводу существования эфира, возможностей машины времени или параллельных вселенных. И, вообще говоря, наука история — занятие отнюдь не менее скучное и неинтересное, чем любая другая. Просто в компании «малознакомых людей» будет обсуждаться нечто совсем иное.
В распоряжении учёного-историка существующие сегодня документы и артефакты. И его задача в том, чтобы описать архивные документы или свидетельства очевидцев тех или иных событий, проинтерпретировать имеющиеся описания своих предшественников, сравнивая их с известными ему или доступными рукописями. Это работа рутинная, её результаты публикуются в специальной литературе, даже важные достижения здесь редко проникают в популярную прессу.
Однако составление определенных сценариев событий прошлого тоже будут частью этой работы. Объективно говоря, главные достоинства такого сценария в том, что он позволяет представить наиболее важные сведения в компактной и легко прочитываемой форме. Субъективно говоря — сам автор сценария может быть в глубине души убеждён, что именно так и было. Но он как минимум знает о существовании других сценариев и их обоснованности. В любом случае он отталкивается от «сегодняшнего дня» и понимает, что этот самый «сегодняшний день» — вещь совсем не абсолютная.
Для «малознакомых людей» этот самый «сегодняшний день» детерминирован абсолютно. Они будут спорить и обижаться не столько из-за исторических событий самих по себе, сколько из необходимости прийти к определённой финальной и актуальной истине. Исторические обстоятельства жизни и смерти Николая II Романова (1868–1918) или Владимира Ульянова (Ленина, 1870–1924) важны не сами по себе — а лишь в той мере, в какой на них опирается задействованный в современной идеологической жизни символ.
История находит бессмертие
По отношению к естественным наукам история исключительно молода. Как исследовательская сфера она начинает формироваться только в XIX веке. Даже если вспомнить уже цитированное определение, данное Цицероном, но только в немного более полной форме:
«История — […] учительница жизни […] — где как не в речи оратора обретёт она свое бессмертие»,
как выясняется, что это совсем не определение. Точнее, определение тут играет побочную роль, а главное — показать, как история входит составной частью в риторику, а через неё и вообще в словесность. При этом неявно предполагается, что включение оратором истории в речь представляет собой скорее волевой акт: оратору надо выбрать, какая из историй наиболее достойна обретения бессмертия вместе с преподносимым ею уроком. Проблема достоверности совсем не беспокоит римского философа.
Вид на город Ситка на Аляске. В 1939–1940 годах в США разрабатывался план развития Аляски, который подразумевал переселение туда европейских евреев, пострадавших от нацистов. Этот план не был утверждён, но послужил основой для романа Майкла Чабона «Союз еврейских полисменов». Фото Frank and Frances Carpenter collection из архива Библиотеки Конгресса США |
Проблема достоверности знаний и в естественных науках долгое время не стояла. Творцы Научной революции XVII века полагали, что истина, будучи открытой, не нуждается в особой защите. В своём письме матери великого герцога Тосканы Кристине Лотарингской Галилео Галилей писал, что, в отличие от юриста, которому требуется красноречие, чтобы защищать свою правоту, учёному оно совершенно без надобности, поскольку его задача — просто открыть истину, и тогда самому красноречивому оратору придётся умолкнуть.
Как ни странно, уже самому Галилею пришлось убедиться, что это не так. Его уверенность, что достаточно посмотреть в телескоп, чтобы понять, насколько неправ был Аристотель (384–322 до н.э.) и Птолемей (ок. 87–165), оказалась совершенно беспочвенной. Одни ничего там не увидели, другие объявили увиденное иллюзией, а его друг и коллега Чезаре Кремонини (Cesare Cremonini, 1550–1631) просто отказался смотреть. «Чтобы не было повода рассуждать о том, в чём я не разбираюсь», — пояснил он впоследствии.
В истории дело обстоит значительно хуже. По меткому наблюдению Ролана Барта (Roland Barthes, 1915–1980), всякий исторический факт — это сущность прежде всего лингвистическая. Он существует лишь после того, как (и благодаря тому, что) выражен в языке. И благодаря литературному искусству писателя или красноречию оратора у читателя (слушателя) возникает чувство: да, именно так всё и было! Форма выражения служит гарантией достоверности содержания.
Но это на сугубо субъективном уровне. Можно быть уверенными и в том, что за фактом скрывается и событие. Однако проверить эту гипотезу практически не представляется возможным. Всякое документированное свидетельство может оказаться подложным, сфальсифицированным или субъективным. Историк, исследуя существующие факты, действует в рамках настоящего и проецирует их на воображаемые события в прошлом, которое оказывается, по словам Бенедетто Кроче (Benedetto Croce, 1866–1952), «настоящим, опрокинутым во времени».
Множественное прошлое
Проблема с прошлым именно в том и заключается, что у людей разное настоящее и они по-разному проецируют его назад во времени. Множественность историй далеко не всегда объясняется только невежеством их авторов. В каком-то смысле это объективный факт.
И у него есть своя аналогия в естествознании. Она появилась относительно недавно и оказалась просмотренной большинством современников. Описывая поведение микроскопических частиц, квантовая механика пользуется так называемой волновой функцией, или вектором состояния. По поводу физического содержания последнего понятия среди физиков несколько десятилетий шли напряженныей споры, отчасти продолжающиеся и теперь.
К середине ХХ века будущий нобелевский лауреат Ричард Фейнман (Richard Feynman, 1918–1988) дал новую формулировку этой, к тому времени уже довольно старой, теории. В соответствии с ней, вектор состояния элементарной частицы, например электрона, в некой точке В, зависит не только от того, каков он был в точке, А и как электрон НА САМОМ ДЕЛЕ попал из А в В, но и от того, как он ВООБЩЕ туда мог попасть. Построенная на основании этого открытия Фейнманом математическая техника сводится к тому, чтобы аккуратно просуммировать все возможные «истории» электрона.
7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на базу тихоокеанского флота военно-морских сил США Пёрл-Харбор. Операция прошла невероятно эффективно, но в конечном итоге Япония потерпела поражение во Второй мировой войне. Как развивалась бы история в случае победы Германии и Японии, рассуждает в фантастическом романе «Человек в высоком замке» Филип Дик. Германия превратилась в колониальную империю и продолжает политику уничтожения «неполноценных народов». Африка опустошена полностью. Японская империя распространила свою власть на Азию и страны тихоокеанского региона. Между Германией и Японией установилось довольно зыбкое равновесие, пронизанное недоверием. Фото из архива US Naval History and Heritage Command |
Самая известная интерпретация фейнмановской идеи принадлежит Хью Эверетту (Hugh Everett III, 1930–1982), и сегодня у неё так же много страстных адептов, как и взбешённых оппонентов. Но в 1956 году, когда он только выдвинул свою идею, реакция сообщества был столь резкой, что ему пришлось навсегда оставить занятия физикой. (Впрочем, это всего лишь одна из версий. Вполне возможно, что он нашёл более высокооплачиваемую работу и физику оставил без сожалений.) Идея его была очень проста: каждая история нашего предполагаемого электрона разворачивается в своей собственной вселенной. Вселенные эти «параллельны» — то есть нигде и никогда не пересекаются. Но электроны в них определенным образом «чувствуют» друг друга, так сказать «интерферируют». И хотя в нашей вселенной у «нашего» электрона вполне определённая и единственная история, она в каком-то смысле даже и не важна: его настоящее определяется не ею.
Смысл этой аналогии очевиден. Однако заключается он вовсе не в том, что кроме «истинной» нашей истории на наше настоящее оказывают влияние и истории наших собратьев из параллельных вселенных — хотя у такой версии наверняка найдутся свои поклонники. Дело в другом: для жизни общества, для формирования его настоящего важна не только его «событийная» история, о которой люди только догадываются, в меру возможностей оценивая правдоподобие тех или иных сценариев, и не только «фактуальная», но и воображаемая и даже «контрфактуальная».
Это обстоятельство хорошо известно, хотя и не всегда осознаётся, любой власти. Контролируя «истории» своего народа и удерживая их многообразие в желаемых рамках, им проще управлять.