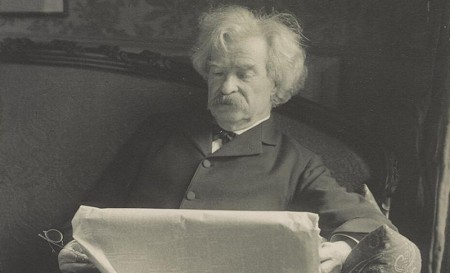Евгений Евтушенко: «Я был влюблен во все, что писал»
В понедельник, 18 июля, поэту Евгению Евтушенко исполняется 72 года. Согласно давнему договору, день рождения он отметит авторским вечером в Политехническом музее. Договор с музеем заключен на 25 лет (осталось провести 13 вечеров). На этот раз он презентует свой новый сборник «Памятники не умирают», где опубликованы стихи, написанные в XXI веке.
Накануне своего выступления в Политехническом Евгений ЕВТУШЕНКО встретился с корреспондентом «Новых Известий» и подарил читателям нашей газеты совсем новое стихотворение.
– Евгений Александрович, вы, как поэт, пережили несколько генеральных секретарей ЦК. Скажите, как относилась власть тогда к писателям?
– Наше правительство побаивалось их. И это была высшая оценка.
– А как же тогда крики того же Хрущева: «Убирайтесь вон из Советского Союза, господин Вознесенский!»
– Он кричал только когда Вознесенский стоял на кремлевской трибуне затылком к нему и был как бы символом чего-то незнакомого, чуждого, но когда он повернулся лицом, с дрожащими губами, белый от волнения, то Хрущев перестал видеть в нем врага, умерил свой пыл и сунул ему руку: «Ну, идите, работайте».
В истории Хрущева есть загадка, о которой мало кто знает. Почему вдруг в здании Манежа появилась открытая не для всех, а только для членов Политбюро, как бы засекреченная для всех остальных выставка так называемых абстракционистов? Почему скульптуры и холсты свозили даже в последнюю ночь перед выставкой? Дело в том, что Хрущев дал задание секретарю ЦК по идеологии Ильичеву в кратчайшие сроки написать постановление ЦК и правительства об отмене цензуры в СССР. Что послужило поводом? А вот и разгадка.
Сразу после выноса Сталина из Мавзолея я написал стихотворение «Наследники Сталина». Несмотря на то что оно было отвергнуто многими редакциями, я прочел его в одном московском театре. После этого человек с полсотни, громко хлопая стульями, вышли из зала в знак протеста. Протестовали и в США, когда я читал стихи о войне во Вьетнаме в Мэдисон-Сквер Гардене. Кстати, привилегию публично читать свои неопубликованные стихотворения, не спрашивая ни у кого разрешения, ввел я. До этого никто не догадывался, что так можно. Когда я предложил опубликовать стихи в «Новом мире», Твардовский сказал с мрачной иронией: «Вы что, хотите, чтобы журнал закрыли? Эти ваши стихи все равно никто не напечатает. Мой вам совет: идите и спрячьте их подальше». Объясняя ему, что идеология и стиль – это разные вещи, я продолжал везде читать это стихотворение, и председатель Союза писателей Соболев назвал его антисоветским.
Но у меня был человек, который очень любил меня. Это Валерий Алексеевич Косолапов. Он напечатал «Бабий Яр», когда был главным редактором «Литературной газеты». Помню, как он вызвал в редакцию свою жену, чтобы принять решение – печатать или не печатать «Бабий Яр». Он так объяснил мне это: «Это должно быть семейное решение. Ведь завтра меня снимут». Пока они с женой читали, я ждал в коридоре. Они вышли из кабинета, глаза жены редактора «на мокром месте». «Не волнуйтесь, Женя, – сказала она мне. – Мы решили быть уволенными». Косолапова вскоре действительно уволили. Он дал мне телефон помощника Хрущева Владимира Семеновича Лебедева: «Только он сможет помочь тебе».
– Дворцовые интриги?
– А что вы хотите – ведь это была империя! Кругом цензура. Мою песню «Хотят ли русские войны» Политуправление армии не разрешало исполнять по радио – считали, что она деморализует армию. Только благодаря вмешательству тогдашнего министра культуры Фурцевой запрет сняли...
Так вот, когда я пришел к Лебедеву, выяснилось, что мой дед Рудольф Вильгельмович Гангнус, арестованный в 1937 году якобы за шпионаж в пользу его родной Латвии, преподавал ему математику перед войной. Мне сам Лебедев рассказал об этом: «Замечательный был человек. Его, арестованного, привозили к нам в школу НКВД, чтобы он нас учил. Мы его все любили». Лебедев добавил: «Вам очень повезло с дедом. Когда читал ваши стихи, то всегда думал, как много у внука от его деда».
Я дал прочитать ему «Наследников Сталина». Он сделал замечание: «Евгений Александрович, вот тут у вас есть слово «Родина», замените его на «партия». Иначе стихи напечатать, боюсь, будет трудно». Я-то, честно говоря, думал, что напечатать будет все равно невозможно. Он попросил также добавить четверостишие про первые пятилетки. Затем взял мои стихи с поправками и пообещал, что покажет Хрущеву в подходящий момент.
Я уехал на Кубу, и тут разразился Карибский кризис. Над островом на бреющем полете пролетали американские самолеты. На переговоры с Кастро приехал Микоян. Он там стал меня знакомить с Фиделем (хотя мы уже были с ним знакомы). «А вот, – сказал Микоян, – наш поэт Евтушенко, и вот в позавчерашней «Правде» его стихи напечатаны». И показывает «Наследников Сталина» на первой полосе.
Уже потом Лебедев объяснил мне, что случилось. Хрущев приехал в какой-то абхазский колхоз, и председатель стал рассказывать ему о зверствах чекистов – как они арестовывали людей, как пытали, убивали. Причем не только интеллигенцию, но и крестьян. И в какой-то момент Хрущев не выдержал, слезы покатились из его глаз, и он по своей всегдашней привычке стукнул кулаком по столу: «Мы недоразоблачили Сталина!» Тут Лебедев и достал из кармана мое стихотворение. «Немедленно в Москву! Военным самолетом! Напечатать в «Правде»!» – приказал Хрущев.
После того, как стихи были опубликованы, группа крупных партийных чиновников из ЦК, не зная, что это было прямое указание Хрущева, написали ему письмо с требованием отставки главного редактора «Правды» Сатюкова. Когда Хрущев вернулся из отпуска, он на первом же заседании произнес громовую речь: «Это что же получается? Значит, и я антисоветчик?! Мы перед нашим народом виноваты – скольких людей невинных мы погубили во время коллективизации, перед войной… Наш народ не стал мстить своему правительству, а встал грудью на защиту Родины в войну. Так какого черта мы цензуруем свой народ? Цензура устарела! Товарищ Ильичев, немедленно подготовьте постановление, что в связи с выросшей сознательностью народа партия и правительство считают институт цензуры анахронизмом». Говорят, что в устах Хрущева это прозвучало как «анахренизм»...
– А какое же отношение это имеет к выставке?
– Когда Хрущев дал это задание для разработки, то люди вроде Ильичева и Суслова поняли, что если цензура будет отменена, то им, идеологам, делать будет нечего. Тогда-то они и придумали хитроумную уловку: решили организовать Хрущеву выставку абстракционистов в Манеже. Как Хрущев повел себя на той выставке, общеизвестно, но он реагировал как обыкновенный человек, который никогда ничего подобного не видел.
И поэтому даже такого легендарного бабника, как Эрнст Неизвестный, он назвал «пидарасом», на что тот ответил весьма лихо: «А вот давайте выстроим одну за другой шеренгу баб и посоревнуемся с вами, Никита Сергеевич». Тому это, как ни странно, понравилось, что Неизвестный не испугался его. Хрущев почувствовал в нем могучего мужика. Думаю, была чисто русская логика и в том, что семья Хрущева попросила сделать памятник Никите Сергеевичу именно Эрнста.
– Вы сказали, что советское правительство побаивалось писателей. Сейчас в России власть, кажется, не боится ничего, даже выборов. Эта тенденция носит чисто российский характер?
– Писатели выключены из общественного движения не только в России. Появилась новая власть – телевидение. Появление писателей по телевидению стало редким не только в России, но и во всем мире. Если сравнить в этом плане Россию и Америку, то у них ситуация еще хуже.
– Вам не кажется, что сегодня власть захватила попса – она в музыке, в литературе, в политике?
– Совершенно верно! И с этим надо бороться. Только вот не надо во всем обвинять попсу. Писатели сами во многом виноваты. Виноваты в том, что не могут организовать настоящий писательский союз. Он необходим. Он должен защищать писательские права. Пока получается, что один союз писателей вхож в правительство и просит там помочь, при этом говоря, что истинные патриоты именно в нем, а в другом союзе не истинные. Вот это позорище! Там ведь, куда ходят эти «истинные писатели», сидят равнодушные люди, и они только потирают руки, когда видят это.
– Почему же провалилась попытка объединения писателей, похожих на вас по духу, в организации «Апрель»?
– Интеллигенция у нас такая. Она напоминает пальцы на руке, которые никак не могут собраться воедино. Они никогда не могут собраться вместе. А по некоторым вопросам нужно собираться и показывать свою солидарность.
– Подобные союзы есть на Западе?
– Нет. Но во всех приличных странах литература субсидируется государством. В Америке на культуру из бюджета выделяются ничтожные деньги, но там много частных фондов. У них есть законы, по которым бизнесменам предоставляется скидка при налогообложении, если они финансируют такие фонды. У нас поддержка культуры не поощряется государством.
– Как вы думаете, стала бы, скажем, «Единая Россия» помогать Пушкину, если бы он писал оды про свободу?
– Конечно, нет. Не представляю, например, вице-спикеров Слиску и Жириновского в этой роли. Не все, но многие члены нашего парламента не сдали бы экзамен хотя бы по минимуму интеллигентности. Вы обратили внимание, что в нынешнем парламенте не оказалось ни одного писателя?!
– Как вы относитесь к тезису, что «рынок все расставит по местам»?
– Думаю, рынок пора поставить на место. В конце концов, существуют вещи, которые дают не экономическую, но нравственную и моральную прибыль государству. Габриэль Гарсия Маркес – сын маленькой страны Колумбия, но он главная гордость Колумбии. У Чили есть Пабло Неруда. А что сегодня есть у России?
– Но ведь и Пушкин, и Моцарт тоже писали в рыночное время и жили на то, что продавали свои стихи и ноты...
– Пушкин был первым поэтом, который начал зарабатывать стихами, он же продавал свои книги. Но кто тогда был читателем? Девяносто процентов населения России было неграмотным. У нас есть сегодня интерес к поэзии. В прошлом году я ездил в Кузбасс. На вечер приходили семьями, сидели в ряду по росту – от старшего до младшего. Конечно, это радует. Я всегда стремился быть понятным людям. Я хотел, чтобы мои стихи читали и крестьяне, и таксисты, и работяги, и ученые. Так и получилось.
– Лев Анненский верно писал: «Евтушенко полюбил эпоху, а эпоха полюбила его». Но зачем вы написали «Автобиографию», публикация которой во Франции принесла вам столько неприятностей на родине?
– Я писал то, что думал. Ничего оскорбительного для своей родины в ней я не сказал. Если ее сейчас перечитать, можно столько наивного найти...
– Вы также наивно писали: «Я думаю о революции и о большой любви»?
– Я был влюблен в то, что писал. Я был искренен.
– Вы также искренне посвящали стихи про Блока Илье Глазунову, а потом также искренне убрали это посвящение?
– Абсолютно верно. Он больше не заслуживал этого посвящения, потому что он поступил некрасиво по отношению к своим коллегам-художникам. Когда их били и называли абстракционистами, хотя многие из них таковыми не были, он добавил, написав статью против них. А лежачего не бьют. Вот если бы они получали Государственные премии и он выступил против этого, тогда другое дело. Но у него мне очень нравился и Блок, и Ксюша Некрасова – вообще его черно-белые работы.
– Выражаясь языком современной молодежи, вас можно назвать «продвинутым». Оказалось, что вы выпускаете видеокассеты, которые используют учителя на уроках литературы.
– Ничего я не выпускаю. Это делают сами учителя. Когда-то Ирэна Лесневская сделала для нашей поэзии великую вещь – она профинансировала 108 передач о русской поэзии, которые вел я. Их долгое время бойкотировали некоторые каналы, а потом дали премию «Тэффи». Насколько я знаю, их переписывали прямо с телевизора и теперь используют в Америке, в Израиле, даже в Австралии. Мои последние передачи, согласно рейтингам, посмотрели пять миллионов человек. Слышал, что Лесневская продает свои акции Ren TV, и хочу через вашу газету обратиться к ней. Дорогая Ирэна Стефановна! Я очень хотел бы получить пусть не все, но хотя бы самые лучшие свои передачи. Я могу договориться с Министерством образования, чтобы их распространяли по стране. Пожалуйста, передайте мне эти кассеты!
– Евгений Александрович, кроме желаний, есть права собственности?
– Какие права собственности?! О чем вы! Я знаю – она так любит поэзию. Когда у Окуджавы не было денег, она ему машину подарила.
– Почему вы решили читать свои стихи в храме?
– Это моя идея фикс. Сама Библия – это великая поэтическая книга. Я уже читал свои стихи во всех церквах, которые можно себе вообразить, и в православных храмах Болгарии и Греции. Там это никого не шокировало. Я читал свои стихи и в синагогах.
– А в мечети?
– Один раз в Турции. Да еще откуда? С самого минарета! Мулле потом, конечно, нагорело – его сняли, но зато он прославился.
– А как к вашей идее отнеслись в нашей церкви?
– Я обратился с этим предложением к высшим чинам нашей церкви, и мне предложили выступить в зале заседаний под храмом Христа Спасителя. А я хотел выступить там, где служба проходит. Мне говорят: «Там же нет скамеек». Ничего, постоят, говорю. В вашингтонском кафедральном соборе скамейки, наоборот, убрали, чтобы больше народу вместилось, и полтора часа люди стояли и слушали мои стихи.
Мне говорят, что не было прецедента. А у Иисуса Христа был прецедент? Я не сравниваю себя с Христом, но сколько в мире было хороших дел, которые стали традицией без всякого прецедента. Я не понимаю, почему русские поэты не могут читать свои стихи в православных храмах. Кстати, это было бы хорошо и для идей православия. Вы просто не представляете, какая сейчас тяга к поэзии. Вот недавно я был в Иркутске, на станции Зима, там отреставрировали дом моего детства, как музей поэзии….
– Экскурсии, наверное, проходят примерно так – за этим столом Женя Евтушенко написал свое первое стихотворение. А вот за тем столом он написал другое стихотворение...
– А куда, скажите, потом все это денется? Музей земляки мои сделали и открыли. Когда мы уехали оттуда, дом – а это обыкновенная изба – стали постепенно растаскивать. Но земляки защитили мой дом.
– Он, наверное, еще и на бюджетном финансировании?
– Да, на бюджете Иркутской области. У музея замечательная директриса, она раньше занималась детьми. В музее часто проходят экскурсии. Как-то раз мне стали на нее жаловаться, что она сделала горку для того, чтобы дети катались. Так это же прекрасно, пусть себе катаются.
Когда я приехал на открытие музея, то в дверях меня встретил огромный букет цветов, за которым пряталась директриса, она очень маленького роста. И я расцеловал ее через эти цветы. Она потом сказала мне: «А знаете, Евгений Александрович, вас можно внести в Книгу рекордов Гиннесса. Даже Пушкин не открывал своего музея, да еще и целуясь с его директором!»
Сейчас на станции Зима ежегодно проводятся сибирские фестивали поэзии. Первый фестиваль из Иркутского драмтеатра транслировался на всю Иркутскую область. А в ней – территория нескольких Франций! На вечере выступили американский, польский, два французских поэта, была и никарагуанская поэтесса. Мы много с ними ездили по области, там, где ни разу еще не было ни одного иностранца.
– У поэтов есть возрастной потолок?
– Поэты в России никогда долго не жили. Единственный поэт, который прожил больше всех, – Павел Григорьевич Антокольский. Он не только писал до 80, но и влюблялся...
– Странно, власти не считали вас своим, но при этом финансировали ваши поездки по миру и давали деньги на фильмы «Детский сад» и «Похороны Сталина».
– Люди были разные… И что значит давали? Мне помогли Сергей Бондарчук и люди, которые меня любили. Кстати, сейчас в России нет ни одной кассеты моих фильмов, а в Америке есть. Мое положение в России в каком-то смысле было схоже с положением Пабло Неруды в Чили. Однажды я был на его вечере в еще доальендовские времена и сидел рядом с каким-то генералом. В какой-то момент генерал, заслушавшись Неруду, смахнул слезу и извинился: «Простите, не мог удержаться. Какой прекрасный испанский язык! Я восхищаюсь его талантом. Я ненавижу его, когда он говорит о политике, но когда слышу, как он читает стихи, то можно с ума сойти». Он почему-то принял меня за американца и удивился, когда узнал, что я русский: «Вы еще скажете мне, что вы тот самый знаменитый Евтушенко?» «Да, это я». «Давайте знакомиться. А я – генерал Пиночет». В нашей стране мои произведения запрещали, останавливали мои поездки, вырубали прямые эфиры…
– И при этом вы получали квартиры, дачу...
– А от кого тогда можно было все это получить?
– Можно было бы и купить. Вы были самым высокооплачиваемым поэтом – 2 рубля 50 копеек за строчку платили вам.
– Ничего подобного! Рубль сорок. При больших тиражах оплата строки повышалась.
– А маленьких тиражей у вас никогда и не было...
– И что я должен был делать? Квартиры тогда были только государственные, кооперативные появились сравнительно недавно.
– В здании гостиничного комплекса «Украина» квартиру тоже не каждому давали.
– Ее я получил, когда мне совсем негде было жить. У меня был поклонник, который поспособствовал: так получилось, что квартира освободилась, и ее отдали мне. А как, по-вашему, все, кто получает сегодня премии, они что, продаются, что ли? Если человеку дали премию или квартиру, то это значит, что он продался?
– Вы намекаете на то, что нужно знать угол прогиба?
– Какой прогиб? Где у меня были прогибы? Я выступал против руководителя нашего государства Хрущева, хотя относился к нему с уважением. Я выступал практически против всех диссидентских процессов. Я был единственным членом Союза писателей, кто протестовал против ввода войск в Чехословакию. Вы думаете, это было так просто сделать? Я же не случайно привел вам в пример случай с генералом Пиночетом. Они же все знали мои стихи наизусть. Хрущев плакал, когда пел «Хотят ли русские войны».
Клавдия Шульженко рассказывала мне, как к Брежневу приехали Ульбрихт с Хонеккером и стали поливать меня грязью за то, что я говорил о необходимости единой Германии. Брежнев сказал им: «А что я могу с ним сделать?»
– У вас никогда не было желания уехать вслед за Солженицыным и другими?
– Нет. Потому что знал, что обратного билета нет.
– То есть вы думали, что СССР – это навсегда, как и коммунистическая власть?
– Вряд ли кто думал, что Советский Союз так быстро развалится. Надо было с самого начала отделить прибалтийский вопрос, и тогда, надеюсь, не было бы такой внутренней напряженности в положении русских в этих республиках. Советскому Союзу не дали последнего шанса выжить – не насилуя народы, а убедив входить в европейское сообщество вместе, когда границы между государствами отмерли бы постепенно, сами собой. Насилие в Вильнюсе, в Тбилиси, в Сумгаите завершило этот распад, ставший для многих людей трагедией. Все раны не скоро залечатся, как не скоро мы освободимся от обоюдных национальных бестактностей. Но не все так уж плохо. Подрастает новое поколение, уже не родившиеся за решеткой «детки в клетке», без имперских комплексов и амбиций госпожи Слиски.
– Помнится, вы еще с депутатскими комнатами на вокзалах боролись. Только их сейчас еще больше стало.
– Что делать, не все удается...
– А как вы относились к Ельцину?
– Ельцин тоже мне нравился. Но моя жена была умнее меня, она сразу сказала мне: «Как ты можешь поддерживать человека с алкогольным синдромом на лице?» Потом меня стала настораживать его безответственность. Он ведь предал доверие народа, особенно рабочего класса, который поверил в него и поддержал. В сущности, привел к власти. А какой был подъем у народа! И как все это было им примитивно сведено к мстительности против Горбачева. Он же развалил Советский Союз, только потому, что хотел избавиться от Горбачева.
– Не знаю, можно ли вас назвать первым модником Москвы, но известно, что первая нейлоновая рубашка в столице была ваша, как и первый костюм с люрексом. Откуда у вас эта страсть?
– Я не подражаю никому, но просто не люблю, когда на улице вижу людей, одетых в одно и то же. Я даже сам, как дизайнер, делаю рисунки для кроя своих рубашек, выбираю ткани, которые ни на ком не видел. Все детство проходил в ватниках, в тех же, что ходили заключенные ГУЛАГа. Все это было сплошь темные, черные цвета. Сегодня – это радуга красок, которые не доданы мне были в детстве.
– Когда-то вы написали пронзительное стихотворение «Со мною вот что происходит», посвятив его Белле Ахмадулиной. А кому еще из бывших жен вы посвятили не менее пронзительные строчки?
– Мне трудно судить. Наверное, это можно сказать про стихи «Любимая, спи», посвященные моей второй жене, Гале. В моей новой книге есть целый новый цикл, посвященный моей жене Маше. Как можно жениться на тех женщинах, которых ты не любишь, а если любишь, как можно не писать посвященные им стихи, если ты поэт? Мужчина не имеет права быть неблагодарным к тем женщинам, которые помогли ему ощутить это самое прекрасное чувство.